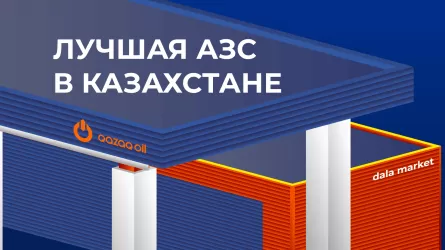В Казахстане три региона традиционно считаются донорами республиканской казны — Алматы, Астана и Атырауская область. Они обеспечивают почти половину налоговых поступлений страны. Но означает ли этот статус реальную финансовую устойчивость и кто может присоединиться к ним в ближайшие годы? Автор телеграм-канала Tengenomika и основатель издания EconomyKZ.org Руслан Султанов объяснил корреспонденту inbusiness.kz, как работает методика расчетов, чем донорство отличается от самодостаточности и почему нынешняя система перераспределения больше закрепляет зависимость, чем стимулирует рост.
 Руслан Султанов. Фото из личного архива
Руслан Султанов. Фото из личного архива
– Руслан Серикович, почему Алматы, Астана и Атырауская область традиционно считаются регионами-донорами?
– В Казахстане статус донора закреплен в типовой методике расчета межбюджетных трансфертов. Логика проста: если прогнозные доходы региона превышают его нормативные расходы, устанавливаются бюджетные изъятия – именно так регион получает ярлык "донора". Если доходы ниже – назначаются субвенции. Но важно понимать: речь идет не о фактических данных, а о плановых прогнозах, которые включают далеко не все реальные расходы. Например, исключаются трансферты, бюджетные кредиты, обслуживание долга, а также расходы на исследования, консалтинг, имиджевые мероприятия и научно-технические проекты и другое. Это делает плановую расходную часть заведомо ниже фактической.
Теперь посмотрим, что это значит на практике. Алматы, Астана и Атырауская область стабильно попадают в число доноров: у них наиболее сильная налоговая база. Их совокупный вклад в местные бюджеты составляет 47,4%, из них Алматы – 24,5%, Астана – 13,5%, Атырауская область – 10,6%. Алматы и Астана концентрируют почти половину всего малого бизнеса и четверть среднего бизнеса страны, что формирует мощные поступления по корпоративному и индивидуальному подоходному налогу. Атырау, в свою очередь, держится на индивидуальном подоходном налоге, акцизах, социальном налоге.
Если смотреть по фактическому исполнению бюджета, то самодостаточными оказываются только Алматы и Атырау (после исключения из доходов трансфертов, а из расходов – трансферты, кредиты и обслуживание долга). Алматы в 2024 году собрал доходы в размере 1,9 трлн тенге при расходах 1,3 трлн тенге, положительная разница – 535,1 млрд тенге. Изъятия составили 226,1 млрд тенге. Атырауская область также имеет положительный баланс в размере 59 млрд тенге: доходы составили 819 млрд тенге, расходы – 760,0 млрд тенге.
Астана, напротив, по кассовому исполнению остается дефицитной: доходы – 1,1 трлн тенге, расходы – 1,2 трлн тенге, отрицательная разница – 105,5 млрд тенге. Это демонстрирует то, что статус донора отражает нормативную модель, а не реальную финансовую устойчивость.
Хочу отметить, что статус "донор" не означает, что регион остается без поддержки. Даже перечисляя изъятия, он продолжает получать трансферты с вышестоящего бюджета. Поэтому значимее фактическая самодостаточность – чтобы регионы были заинтересованы не в том, чтобы полагаться на трансферты, а в том, чтобы развивать собственную налоговую базу. Только тогда система межбюджетных отношений станет не просто механизмом выравнивания, а инструментом стимулирования роста.
– Что изменилось в 2025 году, что в доноры вновь вошла Мангистауская область?
– Пока что ничего принципиального. В 2025 году Мангистауская область не является донором. Несмотря на нефтегазовый профиль, ее налоговая база остается сравнительно узкой. В 2024 году доходы составили 290 млрд тенге, тогда как расходы без учета трансфертов – 540 млрд. Уровень самообеспеченности, по оценкам, снизился с 70% до 57%. Регион зарабатывает в основном на фонде оплаты труда (40% от ИПН и 20% от соцналога), а не на масштабных корпоративных налогах, что делает его доходы менее диверсифицированными и более уязвимыми к колебаниям добычи.
План включения в доноры с 2028 года связан не с текущей устойчивостью, а с ожиданиями будущего роста: запуском шельфовых месторождений Каламкас-море и Хазар и программой развития туризма. Однако стоит заметить, что, если я не ошибаюсь, строительство платформ намечено на 2026 год, а первая нефть ожидается лишь к 2029 году. Поэтому дополнительные доходы в виде корпоративного и подоходного налога появятся только к концу десятилетия, в то время как нагрузка на инфраструктуру и социальную сферу возникает уже сейчас.
Так что главное объяснение в том, что методика опирается на прогнозные параметры и не учитывает всех реальных расходов и доходов. Возможно, что это, скорее, ожидания будущего роста, чем текущая устойчивость бюджета. Перспективы зависят от того, насколько успешно будут реализованы проекты и смогут ли они превратить прогнозируемые доходы в реальные поступления.
– Какие регионы, на ваш взгляд, могут следующими попасть в список доноров - Карагандинская, Павлодарская, Костанайская?
– Ключевой критерий – рост доходов быстрее расходов. По расчетам Нацбюро экономических исследований, за последние три года наибольший прогресс у Шымкента, областей Жетысу, Абай и Улытау: они постепенно сближают доходную и расходную части бюджета, что в перспективе может вывести их к профицитной модели. По уровню обеспеченности в 2024 году лидируют Павлодарская (65%), Алматинская (63%), Шымкент (59%), Улытау (58%) и Мангистауская (57%) области.
Структура налоговых поступлений у всех разная. Шымкент во многом зависит от акцизов – они дают быстрый рост, но нестабильны. Жетысу и Улытау живут на налогах с фонда оплаты труда, что тоже уязвимо. А вот Павлодар и Алматинская область сочетают акцизы с развитой промышленной базой – металлургией, энергетикой, переработкой и агросектором, которые приносят корпоративные налоги. Именно поэтому их шансы выйти в доноры в среднесрочной перспективе выглядят наиболее реальными.
Таким образом, наибольшие шансы в среднесрочной перспективе имеют регионы – Павлодарская и Алматинская области, а также Шымкент. Но для перехода к донорству им необходимо расширять налоговую базу, а значит, стимулировать инвестиции, промышленность и предпринимательство.
– За счет каких отраслей регионам вообще удается укреплять налоговую базу?
– Главные "локомотивы" – промышленность, переработка, энергетика, добывающий сектор и аграрный комплекс. Нефть дает мощный, но волатильный поток. Металлургия и энергетика обеспечивают стабильные поступления от корпоративных налогов. А сельское хозяйство, особенно при развитии переработки, формирует устойчивую базу индивидуального подоходного и социального налогов. Но в конечном счете все упирается в инвестиции: без роста бизнеса не будет и роста налоговой базы.
– Как скажется рост числа доноров на самих регионах, смогут ли они финансировать собственные инфраструктурные проекты?
– Формально – да: статус донора означает, что доходы превышают нормативные расходы. Но на практике не всегда. С одной стороны, регион демонстрирует самодостаточность, с другой – обязан перечислять часть доходов в республиканский бюджет. Даже будучи донором, регион все равно получает трансферты из центра. Это означает, что модель построена так, что изъятия и трансферты существуют одновременно. В итоге донорство не освобождает регион от зависимости, а лишь меняет пропорции: часть доходов уходит в центр, часть возвращается в виде целевых трансфертов.
В итоге у регионов снижается стимул развивать свою налоговую базу: зачем, если в случае дефицита все равно помогут трансферты? И наоборот – даже у доноров с высокими доходами остается ограниченный ресурс для инфраструктурных вложений. Именно поэтому статус донора пока не становится драйвером развития, а лишь формальным признаком финансовой "самодостаточности". Даже самодостаточные регионы оказываются ограничены в финансировании собственных инфраструктурных проектов из-за обязательных изъятий.
Отсюда напрашивается вывод: действующая методика требует пересмотра. Она должна не только фиксировать баланс между доходами и нормативными расходами, но и учитывать эффективность использования средств, уровень инфраструктурных потребностей и способность региона самостоятельно обеспечивать рост налоговой базы. Только тогда донорство станет не формальным статусом, а реальным стимулом к развитию.
– Насколько справедливой Вы считаете существующую модель перераспределения: когда крупные города и ресурсные области "кормят" дотационные регионы?
– В социальном смысле – да, она справедлива. Принцип равного доступа к базовым услугам вне зависимости от региона проживания – ключевой. В этом смысле жители малых или экономически слабых регионов получают гарантированное финансирование на образование, здравоохранение, инфраструктуру.
Но экономически она не стимулирует развитие. Доноры обязаны делиться, но не освобождены от трансфертов, а реципиенты, зная о гарантированной поддержке, часто не стремятся развивать налоговую базу. Это демотивирует всех участников системы к поиску новых источников доходов и к развитию местного бизнеса. Оптимальной была бы модель, которая оставляла бы регионам больше ресурсов для собственных инвестиций и жестче привязывала бы поддержку к результатам: росту налоговой базы, эффективности расходов, привлечению инвестиций. Только тогда межбюджетные отношения станут не просто механизмом выравнивания, а стимулом к развитию.
– Какие риски Вы видите, если зависимость дотационных областей от субвенций сохранится, а нагрузка на доноров будет расти?
– Самый очевидный риск – закрепление иждивенческой модели. Дотационные регионы будут все меньше стремиться к расширению собственной налоговой базы, полагаясь на трансферты из центра. Это снизит их заинтересованность в привлечении инвестиций, развитии малого и среднего бизнеса и росте собираемости налогов. С другой стороны, доноры столкнутся с растущей нагрузкой: при высоких доходах они обязаны перечислять изъятия, в то время как именно у них из-за роста населения будут выше инфраструктурные потребности – ЖКХ, транспорт, социальная сфера, экология. В итоге регионы-доноры оказываются в ситуации, когда значительная часть их ресурсов уходит в центр, а возможности финансировать собственные проекты ограничиваются.
В результате может усилиться региональная диспропорция: доноры будут нести все больший груз, а дотационные регионы застрянут в зависимости. Это снизит устойчивость всей бюджетной системы. Выход один – пересмотр методики. Она должна оставлять регионам больше средств на собственные проекты и одновременно жестче увязывать поддержку с результатами. Только так система станет стимулировать не иждивенчество, а развитие.
Читайте по теме:
В какие регионы Казахстана пришли миллиарды: свежая статистика